19 января - 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича Серова (1865-1911)
- librarybibl

- 28 янв. 2020 г.
- 9 мин. чтения
«Каждый холст Серова был и остаётся праздником для тех, кто любит и ценит искусство. Его живопись несёт нам радость откровения. Она не просто отражает видимый мир - она преображает его, как летний живительный ливень, после которого в серо-голубом воздухе так свежо зеленеет листва деревьев, так бархатисто темнеют их стволы и напитавшаяся влагой лилово-коричневая земля, а мокрые крыши домов голубеют, ловя изменчивые краски неба с бегущими по омытой синеве облаками...»
Н.Е. Волынский

Валентин Александрович Серов – русский портретист, один из крупнейших мастеров европейской живописи XIX века. Серов оставил не менее значимые работы в жанрах русского пейзажа, графики, книжной иллюстрации, анималистики, исторической и античной живописи.
Валентин Серов родился в Петербурге 19 января 1865 года в семье известного композитора Александра Николаевича Серова. Детство Валентина сложилось трагично. Шестилетний малыш теряет отца. Мать, Валентина Семёновна, любя музыку, оставляет мальчика на руках друзей и уезжает за рубеж продолжать занятия композицией. Лишь через два года знакомые привозят Тошу к матери в Мюнхен.
Никому из грубых надзирателей мюнхенской фольксшуле не приходило в голову, что маленький русский, Серов, принятый в школу осенью 1872 года, вот уже второй год, несмотря на их строгий надзор, живёт в своём таинственном и удивительном мире. Для них он просто средний ученик, не очень прилежный и порой угрюмый, которого приходится наказывать за нерадивость и рассеянность.
Часто на уроках Тоша, так прозвали мальчика, забывался и глядел в окно, где за чёрными острыми крышами домов жалким клочком мерцало чужое небо. Он мечтал о широких лугах, о весёлых ветрах, о резвых лошадях, о ярком, добром небе России. Грубый окрик, а порой удар линейкой возвращали его из мира грёз на грешную землю.
Лишь длинными вечерами, в тесном и полутёмном номере гостиницы, вздрагивая от неведомых шорохов, мальчик оставался наедине со своими мечтами. Он мечтал ... и рисовал. В рисунках Тоша вспоминал всё, что ему было дорого. Белые странички больших альбомов заполняли острые, недетские кроки*. И когда поздно ночью мать возвращалась домой с концерта или из оперы, она нередко заставала сынишку уснувшим над рисунком.
Мир музыки, владевший всеми помыслами Валентины Семёновны, не мог целиком заслонить от её внимания необычайное дарование сына, и она принимает решение везти Тошу в Париж к Репину, которого близко знала. Так и встретились на Монмартре девятилетний Серов и тридцатилетний, уже признанный художник.
Ежедневно маленький Тоша взбирается на мансарду к Илье Ефимовичу Репину и там, в его мастерской, штудирует гипсы, пишет натюрморты. А придя домой, рисует, рисует безудержно огромный мир, который его окружает. У него нет друзей-сверстников, и он растёт дичком. Бесконечной вереницей тянутся дни, заполненные рисованием и живописью.
С недетской энергией преодолевает юный Серов трудности школы. Вот что вспоминает о тех днях Репин: «В мастерской он казался старше лет на десять... Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение: я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве. Да, это была натура»! Геркулес. Эти слова написаны о мальчике десяти лет. Мать радовалась успехам сына. В редкие дни, когда она была свободна от занятий музыкой, Тоша водил её по музеям Парижа.
Наступило лето 1875 года, и судьба переносит юного Серова с берегов Сены в Россию. «Серов рос не по дням, а по часам», – рассказывал друзьям Виктор Васнецов об успехах молодого художника. Репин, его любимый учитель, у которого он работал в мастерской и жил последние годы на правах члена семьи, однажды, разглядывая этюд, написанный при нём с натуры, сказал: «Ну, Антон, пора поступать в Академию» (Антон – это Валентин, Валентоша, Тоша – Антоша). Пятнадцатилетнего Серова в порядке исключения зачисляют вольнослушателем в класс к учителю Репина и Сурикова – Павлу Петровичу Чистякову.
Здесь молодой художник завоёвывает уважение, его талант вызывает восхищение. П.П. Чистяков говорил о Серове, что он ещё не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая отпущена была природой его ученику. «И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция – всё было у Серова, и было в превосходной степени». В Академии юноша крепко сдружился с академистами Врубелем и Дервизом, они рисовали и писали вместе и стали неразлучными.
Вскоре Серов познакомил их с семьёй своей тётушки Аделаиды Семёновны Симонович. Каждую субботу, чуть темнело, друзья спешили на Кирочную улицу, где их ждали рисование, стихи, музыка и старые знакомые – сёстры Маша и Надя Симонович и их подруга Оля Трубникова.
Судьбе было угодно крепко связать жизни этих молодых людей. Владимир Дервиз вскоре женится на Надежде. В этом доме начнётся роман Валентина Серова с Ольгой, который после ряда трудных лет приведёт их к счастливому браку. Михаил Врубель влюбился в Машу. В работах Врубеля есть отражение этого увлечения – Тамара в иллюстрациях к «Демону». В рисунках переданы поэтичные черты Машиного характера. Потом он звал Машу ехать с ним в Киев, но мать не отпустила её. Будь иначе, мы не познакомились бы с серовской «Девушкой, освещённой солнцем».
Весной 1887 года Серов посетил Италию. «Милая моя Леля, – пишет он невесте. – Да, да, да. Мы в Венеции, представь». И дальше, восторженно отзываясь о художниках Ренессанса, об их творениях, говорит: «Я хочу таким быть – беззаботным, в нынешнем веке пишут все тяжёлое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного, и буду писать только отрадное».
По словам Серова, эта весна была «весной сердца», самой счастливой порой его жизни. Художнику открылся новый мир гармонии, и он сразу перешагнул порог, недоступный многим, порог, за которым живёт сама красота. И когда поезд примчал его с берегов Адриатики на берега речушки Вори – в Абрамцево, по-новому, с невероятной остротой ощутил он свежесть русской природы, чарующие краски северного края, прелесть любимой родины. Он пишет свой первый шедевр – знаменитый портрет двенадцатилетней Верочки Мамонтовой «Девочку с персиками» (1887). В этой картине, по словам Серова, хотелось сохранить«свежесть живописи при полной законченности, как у старых мастеров».
В. Серов «Девочка с персиками» (Портрет В.С. Мамонтовой), 1887
В Домотканове был создан портрет двоюродной сестры «Девушка, освещённая солнцем» (1888). Вспоминая это время, Мария Яковлевна Симонович писала: «Мы работаем запоем, оба одинаково увлеклись: он удачным писанием, а я важностью своего назначения. Он искал нового способа передачи на полотно бесконечно разнообразной игры света и тени при свежести красок. Да, я просидела три месяца и почти без перерыва, если не считать те некоторые сеансы, которые приходилось откладывать из-за плохой погоды. В эти несчастные пропуски он писал пруд» («Заросший пруд. Домотканово», 1888).
Оба портрета наполнены не только увлечённостью новой техникой живописи, но и особой одухотворённостью, поэтичностью, что сразу выделило молодого художника и сделало его известным. За картину «Девочка с персиками» Серов получил премию Московского общества любителей художеств, а второй портрет тотчас купил Третьяков.
В любимом Домотканове были созданы такие произведения, как «Октябрь»(1895), «Стригуны» (1898), «Баба с лошадью» (1898) и многие рисунки к басням Крылова.
В 1887 году Серов женился на Ольге Фёдоровне Трубниковой. Семья была большой и дружной. Детей Валентин Александрович любил нежно и с удовольствием писал их. Портрет-картина «Дети» (1899), где изображены сыновья художника Юра и Саша, рисунок «Сёстры Боткины» (1900), портрет Мики Морозова (1901) привлекают лиричностью и тонким постижением детского характера.
Своему другу Мамонтову Серов сообщает в 1890 году: «Написал я в Костроме два портрета. Совсем портретчиком становлюсь». Тонкий психологизм, умение увидеть и показать, «коего духа человек перед ним», делают Серова ведущим портретистом России.
В портретах Серова – его современники, разные по характеру, внутреннему миру: темпераментный певец Ф. Таманьо (1891), обладающий, по образному выражению художника, «золотой глоткой», жизнерадостный друг художника пейзажист К.А. Коровин (1893), одухотворённый Левитан (1893), подчёркнуто-нервный Лесков (1894).
Старшая дочь Серова в воспоминаниях об отце писала, с каким творческим горением работал художник над портретами: «А вот глаза – глаза взглядывали быстро, с таким напряжением, с таким желанием увидеть и охватить всё нужное ему, что взгляд казался частицей молнии, как молния, он мгновенно как бы освещал всё до малейших подробностей».
В середине 90-х годов Серова осаждают высокопоставленные заказчики. После написания портрета Марии Федоровны Морозовой (1897), матери архимиллионеров Морозовых, и картины-портрета С.М. Боткиной (1899), показанного на Всемирной парижской выставке, началась новая линия в творчестве художника. Современники говорили, что Серова нередко боялись, боялись прозорливости, неподкупных оценок, даже упрекали в том, что он шаржирует модель. «Никогда не шаржировал, – отвечал он, – что делать, если шарж сидит в самой модели, чем я виноват? Я только высмотрел, подметил».
В 1900 году Серов заканчивал писать портрет Николая II. В зал дворца вошла царица. Она взглянула на портрет, на царя, взяла сухую кисть из ящика с красками и указала поражённому художнику: «Тут слишком хорошо, здесь надо поднять, здесь опустить». Кровь ударила в голову Серову, он взял из ящика палитру и, протянув её царице, сказал: «Так вы, ваше величество, лучше уж сами пишите... а я больше слуга покорный».
На рубеже 1890-1900 годов художник обращается к прошлому русской истории. Появляется цикл карандашных рисунков, гуашей, акварелей, картин темперой**, маслом. Небольшие композиции кажутся необычайно жизненными, будто написаны с натуры («Выезд на охоту Петра II и Елизаветы Петровны», 1900).
Революция 1905 года оставила заметный след в творческом наследии и жизни художника. Именно в эти годы сформировался облик Серова–гражданина, остро осознающего социальную несправедливость. В Петербурге Серов стал очевидцем расстрела рабочих на 5-й линии Васильевского острова, и это потрясло его. «Он слышал выстрелы, видел убитых. С тех пор его характер резко изменился – он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим: особенно удивляли всех его крайние политические убеждения», – писал о Серове Репин.
В знак протеста он вышел из состава действительных членов Академии художеств, навсегда отказывается выполнять заказы царского двора. На телеграмму с просьбой написать портрет царя отвечает короткой телеграммой: «В этом доме я больше не работаю».
В день освобождения политических заключённых Серов находился у Таганской тюрьмы, был в Университете, где строились баррикады, и на похоронах Баумана. В альбоме художника появились рисунки: атаки казаков на безоружный народ, а затем и картина, исполненная темперой, «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (1905), «Баррикады, похороны Н.Э. Баумана» (1905), острые политические карикатуры: «1905 год. После усмирения», «1905 год. Виды на урожай 1906 года» (1905).
В эти годы ещё больше оттачивается мастерство Серова–рисовальщика.Портреты-рисунки Ф.И. Шаляпина, К.С. Станиславского, И.М. Москвина, В.И. Качалова, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Врубеля, А.Н. Андреева составляют гордость русского искусства.
Героическая эпоха Петра I, суровая и небывалая, завладевает воображением художника. Одна из лучших композиций – темпера «Пётр I» (1907). Пётр на «журавлиных» ногах, грозный и стремительный, движется навстречу сильному ветру. Его нелепая карнавальная свита (столь необычные формы принимают их развевающиеся на ветру одежды) с трудом продвигается за ним. В стремительном шаге Петра навстречу новой стройке, в бурлящей воде, в тоненьких мачтах кораблей, в несущихся облаках – во всём ощущение динамики преобразований, которые стали возможными благодаря напору воли, энергии, вихревому натиску мужественных людей.
В мае 1907 года Серов едет в Грецию, которая произвела на него огромное впечатление. В античной классике художник восхищён декоративностью памятников, их соразмерностью. Он стремится воплотить увиденное и передать существо легендарной истории, красоту мифологии Эллады. Художник создает поэтическое сказание «Похищение Европы» (1910) и различные варианты «Одиссея и Навзикаи» (1910).
Валентину Александровичу очень понравилась постановка балета «Шехеразада» с музыкой Римского-Корсакова для Русских сезонов Дягилева в Париже. Занавес*** в стиле иранских миниатюр был сделан в последний год жизни художника. Серову помогали коллеги – И.С. Ефимов с женой Н.Я. Симонович-Ефимовой. Занавес к балету «Шехерезада» имел большой успех и в Париже, и в Лондоне.
Художнику легко работалось в Париже. Он вспоминал здесь свою юность, много бродил по музеям, забывая о портретной заказной кабале, копировал, рисовал. Интересом к монументальному и декоративному искусству было вызвано и особое решение портрета танцовщицы Иды Рубинштейн (1910). Серов находил в облике актрисы черты подлинного Востока и сравнивал её с фигурами античных барельефов.
Художник непрестанно рисует с натуры. Для этого он ежедневно посещает улицу Нотр-Дам – студию Коларосси. Там в основном рисовала молодёжь. Серов часто был недоволен своими рисунками и выдирал листы из альбома, выбрасывал их. Кто-то сказал ему:
– Вы бросаете кредитные билеты.
– Ну, какая я знаменитость! – ответил Серов. – Знаете, есть такой табак –«выше среднего». Вот я такой табак, не больше.
…Осенью 1911 года Серов приехал отдохнуть от московской суеты в Домотканово. Русское раздолье радовало глаз, веселило душу. Художник бродил по дорогим сердцу аллеям старого парка, подолгу сидел там. Погожие, тёплые дни, осенний воздух развеяли хандру, и Серов был на редкость весел и добр. Он забыл о болезни сердца, омрачавшей его жизнь в последние годы.
Как-то добрым сентябрьским днём молодёжь усадьбы затеяла игру в городки в старой липовой аллее. Валентин Александрович решил тряхнуть стариной. Он ловким ударом разбил один «город», другой. Но внезапно, почувствовав боль в сердце, бросил биту. В тот же день домоткановцы проводили его в Москву…
В ноябре Игорь Грабарь решил показать Серову новую экспозицию его работ в Третьяковской галерее. Вот что он пишет об этом памятном дне: «Я никогда не забуду... как мы стояли с ним перед этим портретом – «Девушка, освещённая солнцем». Он долго стоял перед ней, пристально её рассматривая и не говоря ни слова, потом махнул рукой и сказал не столько мне, сколько в пространство: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, сколько ни пыжился, ничего уж не вышло: тут весь выдохся». Почти четверть века отделяло этот ноябрьский день от жаркого июньского дня, когда молодой художник писал Машу. На Серова глядела с портрета его юность. Он невольно отвёл глаза в сторону и увидел себя в стекле висевшей рядом картины – на него грустно взглянуло усталое лицо пожилого человека…
Серов утверждал: «Я не портретист. Я – просто художник». Это высказывание можно воспринимать двояко. Вряд ли Серов и вправду считал себя, скажем, пейзажистом. Скорее всего, художник, большую часть времени работавший на заказ, хотел подчеркнуть, что его картины не укладываются в строгие рамки портрета. «Я, внимательно вглядевшись в человека, каждый раз увлекаюсь, пожалуй, даже вдохновляюсь, но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а той характеристикой, которую из него можно сделать на холсте», – откровенно говорил мастер.
В портретах последних лет – О.К. Орловой (1911), В.О. Гиршмана (1911) – художник стремится к обостренной выразительности формы. Это особенно заметно в портрете Г.Л. Гиршман (1911) и в неоконченном портрете П.И. Щербатовой.
Рано утром 5 декабря 1911 года В.А. Серов спешил на портретный сеанс к Щербатовым... упал и умер от приступа стенокардии... Умер в самом расцвете творчества, в возрасте 46 лет. Смерть художника потрясла его современников. Преклонявшийся перед талантом мастера поэт Брюсов писал: «Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни, и то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют».
ПРИМЕЧАНИЕ
* Кроки́ (фр. croquis: croquer – чертить, быстро рисовать) – наскоро сделанный набросок, обычно карандашный, передающий наиболее характерные черты живописного, скульптурного или архитектурного произведения.
** Те́мпера (итал. tempera, от лат. temperare – смешивать краски) – водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом темперных красок служат эмульсии – натуральные (разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо) или искусственные (высыхающие масла в водном растворе клея, полимеры).
*** Занавес так бы и остался в запасниках французской истории, но был куплен на аукционе Sotheby's и привезён на родину Мстиславом Ростроповичем.
К сведению
Улица Серова в городе Ставрополе названа в честь Героя Советского Союза, лётчика Анатолия Серова. Об этом подробнее читайте здесь
Сайт «Товарищество передвижных художественных выставок». Валентин Серов – признанный мастер-портретист
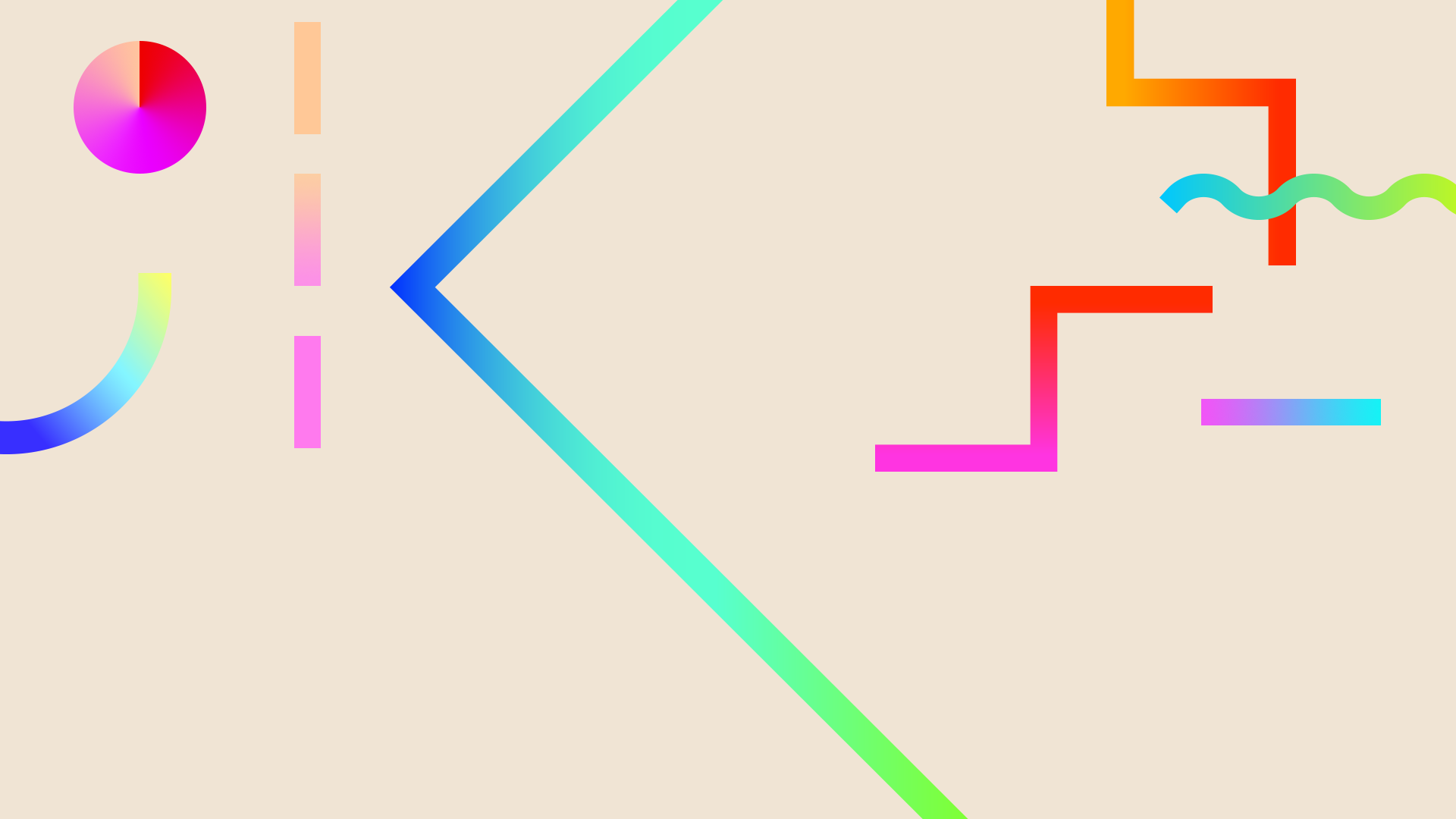








Комментарии